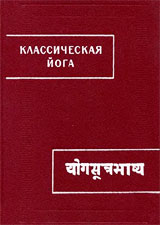Йога-Сутры Патанджали и Вьяса-Бхашья
Настоящая работа (Классическая Йога. Йога-Сутры Патанджали и Вьяса-Бхашья — перевод с санскрита, введение, комментарий и реконструкция системы Е.П. Островской и В.И. Рудного) посвящена двум основополагающим текстам индийской религиозно-философской системы (даршаны) санкхья-йога, сложившейся в эпоху древности и раннего средневековья: Йога-сутрам Патанджали и комментарию к ним Вьясы ( Вьяса-бхашья ).
Йога-сутры получили известность как самый старый и авторитетный учебник йоги — традиционной системы психофизической регуляции сознания. Именно такая интерпретация целевого назначения текста Патанджали и пробудила к нему широкий интерес, выходящий далеко за пределы круга академической индологии.
Сведения о существовании некоего набора традиционных методик позволяющих укрепить здоровье, надолго сохранить физическую красоту и обрести сверхнормальные психические способности — методик, именуемых йогой, проникли в Европу значительно раньше, нежели профессиональные индологи осознали необходимость изучения индийской религиозно-философской мысли. Интеpec к йоге развивался отнюдь не в прямой связи с научными культурологическими изысканиями и историко-философскими исследованиями. Сделавшись со временем самостоятельным элементом европейской и американской массовой культуры, йога породила ряд мистифицированных представлений о ее роли в духовной культуре Индии, о ее назначении и возможностях прикладного использования.
Вместе с тем попытки рассматривать «Йога-сутры» в качестве инструктивного пособия, своего рода наставления в том, как «освоить йогу», неизбежно приводят к разочарованию, поскольку текст Патанджали не есть передача технологии. А йога, в свою очередь, как метод работы с сознанием не выступает некой отдельной областью индийской культуры или уникальным достижением какой-либо одной из религиозно-философских школ. В истории формирования индийской мысли она занимала устойчивое и вполне определенное место и принималась как ортодоксальными брахманистскими системами, признававшими абсолютный авторитет вед, так и системами неортодоксальными, что известно прежде всего благодаря письменным источникам буддийских школ и направлений.
В функциональном отношении индийские религиозно-философские системы древности и раннего средневековья характеризуются довольно отчетливым полиморфизмом. Как правило, школьная традиция опиралась на совокупность догматических положений (религиозную доктрину), выдвигавших в качестве цели духовное преображение человека (освобождение, просветление). Традиция предписывала и путь обретения этого состояния — последовательную практику психофизических методик регуляции сознания, и эта практика варьировала от школы к школе. И, наконец, каждая школа располагала более или менее обширной литературой логико-дискурсивного характера (трактаты и комментарии к ним), т. е. такой литературой, которая в теоретически-доказательной форме излагала концептуальное осмысление исходных идей и опыта преобразования сознания.
В этом смысле санкхья-йога не представляла собой исключения, и было бы неправомерно усматривать в авторе «Йога-сутр» создателя практики йоги или ее единственного теоретика. Виднейший историк классической индийской философии С. Дасгупта характеризовал Патанджали как теоретика именно санкхьяистского направления в йоге. Он, подчеркивал Дасгупта, «не только собрал различные формы йогических практик и отделил разнообразные идеи, которые были или могли быть связаны с йогой, но и пересадил их на метафизику санкхьи и придал им тот вид, в котором они и дошли до нас» 2.
Сразу отметим, что, говоря о роли «метафизики санкхьи» в процессе оформления санкхья-йоги, необходимо иметь в виду известные ограничения и не отождествлять систему, закрепленную в «Йога-сутрах» Патанджали и «Вьяса-бхашье», с религиозно-философской школой, нашедшей свое выражение в «Санкхья-кариках» Ишваракришны (V в. н. э.) и известной как классическая санкхья 3. Безусловно, здесь следует говорить о двух ветвях дерева, имевшего один корень — древнюю санкхью, дидактическое изложение которой обнаруживается в некоторых разделах эпоса «Махабхараты» (например, в «Беседах Маркандеи», в «Анугите»). Все же санкхья-йога и классическая санкхья — это две несовпадающие школьные традиции, каждая из которых сформировала свой угол зрения, свой разворот исходных идей.
Перед исследователем, таким образом, возникает весьма существенный вопрос: какие письменные памятники образуют тот логически связный смысловой контекст, на фоне которого можно было бы приступить к проблеме историко-философского истолкования «Йога-сутр» Патанджали? Насколько трактат Вьясы способен выполнить данную функцию?
В этой связи необходимо коснуться вопроса о датировке текста Патанджали и некоторых комментариев к нему, прежде всего «Вьяса-бхашьи». Вопрос, что важно подчеркнуть, имеет статус отдельной, самостоятельной индологической проблемы, но для настоящей работы является факультативным. Мы затронем его лишь постольку, поскольку того требует наша концепция исследуемых памятников.
Источник
Йога сутра патанджали вьяса бхашья
3. Тогда Зритель, Пуруша, пребывает в собственной форме.
В этом случае энергия сознания, или Пуруша, пребывает в своей собственной форме как в состоянии абсолютной обособленности. Однако при актуализированном сознании она не представляется таковой, хотя в действительности это так.
— Почему же тогда это происходит?
— В силу того, что объекты показывают себя Зрителю.
4. В других случаях — сходство с деятельностью сознания.
Пуруше в актуализированном состоянии свойственна деятельность, которая не отличается от деятельности сознания. Так, в сутре сказано: «Существует лишь одно проявление для обоих, и это проявление есть знание».
Сознание — словно магнит, действующий одним лишь фактом своей близости; благодаря свойству быть наблюдаемым оно становится собственностью Пуруши, своего господина. Поэтому безначальная связь Пуруши с сознанием и есть причина постижения им содержаний деятельности сознания.
Тем не менее эта деятельность сознания, будучи многообразной, должна быть прекращена.
5. Пять видов деятельности сознания: загрязненные и незагрязненные.
Те, что обусловлены аффектами и служат полем для накопления бессознательных «следов» кармы — загрязненные, а имеющие своим объектом различающее постижение и противодействующие господству трех гун — незагрязненные. Они остаются незагрязненными, даже попадая в поток загрязненного, они же -незагрязненные в промежутках загрязненного; и, наоборот, загрязненное остается загрязненным в промежутках незагрязненного.
Таким образом, самскары, принадлежащие к одному и тому же виду, создаются соответствующими видами деятельности сознания , а сама деятельность — самскарами. И так колесо деятельности сознания и самскар вращается непрерывно.
Будучи таковым по своей природе, сознание после того, как оно выполнило свою функцию, пребывает в самотождественности или же идет к пралайе, то есть к «растворению» в первопричине в конце космического цикла.
Эти пять видов деятельности — загрязненные и незагрязненные — перечисляются ниже:
6. Истинное познание, заблуждение, ментальное конструирование, сон и память.
7. Истинное познание — это восприятие, умозаключение и авторитетное свидетельство.
Чувственное восприятие есть источник истинного знания, проявляющийся в тех случаях, когда сознание испытывает воздействие внешнего объекта через каналы органов чувств. Объективная сфера его функционирования — общее и специфическое; его главная функция — установление специфического в объекте. Результат чувственного восприятия — постижение Пурушей деятельности сознания как чего-то, не отличимого от него самого. Как мы подробно разъясним в дальнейшем, Пуруша обладает рефлексией на буддхи, то есть на содержание ментального опыта.
Умозаключение есть действие сознания, имеющее своим объектом связь, наличествующую между элементами одинаковых классов, относительно которых делается логический вывод, и отсутствующую между элементами различных классов. Его главная функция — установление общего. Например: луна и звезды обладают движением, так как они меняют свое местопребывание подобно Чайтре (1месяц года); горы Виндхья не обладают движением, так как не перемещаются.
Объект, увиденный или логически выведенный авторитетным лицом, описывается им в словах для передачи своего знания другому лицу; состояние сознания слушателя, возникающее на основе слов и имеющее объектом их значение, есть авторитетное вербальное свидетельство.
Если же свидетельствующий говорит о вещах, не заслуживающих доверия, или об объектах, не виденных им либо не выведенных логическим путем, то такое вербальное свидетельство становится шатким. Однако свидетельство исходного авторитета относительно виденных или выведенных логическим путем объектов не может быть поколеблено.
8. Заблуждение есть ложное знание, основанное не на собственной форме реального объекта.
— Почему оно не является источником истинного знания?
— Потому что оно устраняется посредством истинного знания, ибо предметной областью истинного знания выступает то, что существует в действительности. В этом и обнаруживается противоположность истинного знания и заблуждения. Так, ложное восприятие двух лун опровергается зрительным восприятием луны как реально существующего объекта.
Это заблуждение и есть то пятеричное неведение, о котором сказано: «Неведение, эгоизм, страсть, ненависть и инстинкт жизни суть пять базовых аффектов». Именно они и обозначаются соответствующими именами: тьма, ослепление, великое ослепление, мрак и слепой мрак. В дальнейшем они будут рассмотрены в связи с «загрязнениями» сознания.
9.Ментальное конструирование лишено референции и проистекает из вербального знания.
Оно не восходит ни к истинному познанию, ни к заблуждению. Однако и при отсутствии референции, то есть объективной основы, его применение представляется зависимым от авторитетности вербального знания. Так, рассмотрим высказывание: «Сознание есть собственная форма Пуруши». Но если Пуруша есть не что иное, как чистая энергия сознания, то что в таком случае и чем предицируется подобное высказывание? Ведь обозначающая функция проявляется в предицировании, например: «Корова Чайтры». Аналогичным образом: «Пуруша бездеятелен». Здесь касательно Пуруши отрицается свойство, обнаруживаемое в реальном объекте. Еще один пример: «Бана стоит, остановится, остановился» . Значение глагольного корня [stha] понимается как остановка движения. Точно так же: «Пуруша обладает свойством невозникновения». Здесь имеется в виду только отсутствие свойства возникновения, но не какое-либо негативное свойство, присущее Пуруше. Поэтому это свойство является умозрительно сконструированным и тем самым вошедшим в обыденное словоупотребление.
10.Сон есть специфическая деятельность сознания, опирающаяся на отсутствие познавательных содержаний.
И эта деятельность сознания представляет собой особый опыт, поскольку она воспроизводится в памяти после пробуждения. Как иначе можно думать: «Я спал очень хорошо; мой ум ясен, он делает мою способность постижения весьма искусной»? Или, напротив: «Я спал плохо; мой ум вял и медлителен, он блуждает в своей неустойчивости»? Или: «Я спал в глубоком оцепенении; члены моего тела тяжелые; ум вялый и опустошенный, словно его обокрали»?
Такая рефлексия после пробуждения, разумеется, не была бы возможна, если бы в чувственном опыте во время сна не присутствовала бы соответствующая причина, то есть тамас, как не было бы и воспоминаний, основывающихся на ней и имеющих ее своим объектом. Поэтому сон есть специфическая деятельность сознания и при йогическом сосредоточении должен быть устранен, подобно другим формам деятельности сознания.
11. Память есть сохранение «неутрачивание» прошлого опыта.
Вспоминает ли сознание представление об объекте или же сам объект? Представление, окрашенное объектом восприятия, возникает в сознании как имеющее форму и объекта, и процесса восприятия. Оно-то и дает начало самскаре, принадлежащей к соответствующему классу. Этот формирующий фактор, выступающий проявлением того, что обнаруживает самое себя, в свою очередь, и порождает память, представляющую по своей сути форму как объекта, так и процесса восприятия.
При этом интеллект есть то, в чем главенствует форма процесса восприятия, а память — то, в чем главенствует форма объектов. Она, память, двух видов: когда припоминаемое воображаемо и когда припоминаемое невоображаемо. Во сне припоминаемое воображаемо, в состоянии бодрствования — невоображаемо.
Все эти воспоминания возникают из опыта, обусловленного истинным знанием, заблуждением, ментальным конструированием, сном и памятью. И все эти формы деятельности сознания по своей сути — удовольствие, страдание и тупость.
Удовольствие, страдание и тупость будут рассмотрены в разделе об аффектах: «Страсть коренится в удовольствии, вражда — в страдании, неведение же есть тупость». Все эти формы деятельности сознания должны быть прекращены. По их прекращении возникает сознательное или бессознательное сосредоточение. Итак, каков метод достижения их прекращения?
12. Их прекращение достигается благодаря практике и бесстрастию.
Поистине, реке сознания свойственно течь в двух направлениях: она течет и ко благу, она течет и ко злу. Река, которая устремлена к абсолютной обособленности по руслу различения, течет ко благу. Если же она устремлена к сансаре по руслу неразличения, то она течет ко злу. Из этих двух поток, стремящийся к чувственным объектам, перекрывается посредством бесстрастия, а поток, стремящийся к различению, прокладывает себе путь с помощью практики различающего знания. Таким образом, прекращение деятельности сознания основано на них обоих.
13. Из них практика, есть непрерывное усилие по сохранению устойчивости сознания.
Устойчивость есть отсутствие развертывания сознания, невозмущаемость его течения. Практика — это непрерывное усилие, предпринимаемое с данной целью, энергичность, упорство в желании достичь состояния устойчивости и соответствующий образ деятельности по ее реализации.
14. Но она становится прочно укорененной только тогда, когда ее придерживаются в течение длительного времени без перерыва и с должным вниманием.
Практика, которой придерживаются в течение длительного времени, придерживаются непрерывно и реализуют ее посредством подвижничества, воздержания, знания и веры, то есть с надлежащим вниманием, становится прочно укорененной. Другими словами, ее цель, то есть устойчивость сознания, не может быть внезапно подавлена возникающими самскарами,- таков смысл сутры.
15. Бесстрастие есть состояние полного преодоления у того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, освященным традицией.
Сознание, лишенное влечения к чувственным объектам, таким, как женщины, еда, питье, власть и т. д., и целям, освященным ведийской традицией, обретению жизни на небе, бестелесности и растворению в первопричине,- даже при наличии связи с божественными или мирскими объектами видящее их несовершенство благодаря способности высшего различения, есть сознание полного преодоления, характеризующееся отсутствием чувственного опыта, свободное от всего, что должно быть отброшено или присвоено. Это и есть бесстрастие.
16. Оно — высшее, когда благодаря постижению Пуруши исчезает влечение к гунам.
Видящий несовершенство чувственных и освященных традицией объектов становится безразличным к ним.
Благодаря практике видения Пуруши йогин, разум которого расширен благодаря совершенному различению, порождаемому чистотой этого видения, становится безразличным к гунам как и их проявленной, так и непроявленной сущности.
Таковы два вида бесстрастия. Высшее из них — не что иное, как ясный свет знания. Тот йогин, у которого с появлением этого света возникла способность различающего постижения, размышляет: «Все, что должно быть обретено, обретено; аффекты, которые должны быть избыты, избыты; разорвана неразъемная цепь непрерывности существования, при сохранении которой за рождением следует смерть, а за смертью — новое рождение».
Именно бесстрастие есть высшая цель истинного знания, и абсолютная обособленность связана с ним нераздельным образом.
Далее. Почему прекращение деятельности сознания, достигаемое посредством обоих методов, называется сознательным сосредоточением?
17. Оно — сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости.
Избирательность есть «грубый» опыт относительно объекта сознания, рефлексия — «тонкий». Блаженство есть внутренний подъем. Самость есть сознание единства с собственным «я».
Здесь первая ступень сосредоточения, сопровождаемая всеми четырьмя формами, называется «с избирательностью». Вторая, лишенная избирательности,- «с рефлексией». Третья, лишенная рефлексии, «с блаженством». Четвертая, лишенная и его,- «только-самость». Все эти ступени сосредоточения называются «наделенные опорами».
Далее, о бессознательном сосредоточении. Каков метод его достижения и какова его собственная природа?
18. Другое сосредоточение, при котором остаются только формирующие факторы, предваряется практикой, обусловливающей прекращение деятельности сознания.
Бессознательное сосредоточение — это остановка сознания, при которой прекращается вся его деятельность и остаются лишь санскары, то есть бессознательные формирующие факторы. Метод его достижения — высшее бесстрастие, ибо практика работы с объектом как опорой сознания не может служить средством его реализации. Опорой бессознательного сосредоточения становится причина остановки деятельности сознания, не имеющая предметной реальности. При таком сосредоточении объект отсутствует. Состояние сознания, которому предшествует такая практика, лишается опоры, как если бы оно было наделено несуществованием.
Так возникает это «лишенное семени» сосредоточение, называемое бессознательным.
Оно, как известно, бывает двух видов: обусловленное методом и обусловленное существованием. Из них сосредоточение, обусловленное методом, свойственно только йогинам.
19. Бессознательное сосредоточение, обусловленное существованием, бывает у бестелесных и растворенных в первопричине существ.
У бестелесных богов бессознательное сосредоточение обусловлено формой существования. Они испытывают состояние, подобное абсолютной обособленности, будучи наделенными сознанием, использующим только собственные самскары, то есть формирующие факторы, а затем переходят в соответствующие их виду формы существования, когда их самскары приносят результат.
Так же и те, кто растворен в первопричине, испытывают состояние, подобное абсолютной обособленности, при которой их сознание, еще не реализовавшее свою задачу, пребывает растворенным в первопричине. И так продолжается до тех пор, пока сознание из-за не выполненной еще задачи не возвращается вновь в круговорот бытия.
20. У других существ бессознательному сосредоточению предшествуют вера, энергия, памятование, созерцание и мудрость.
Для йогинов условием достижения бессознательного сосредоточения является метод. Вера есть ментальная ясность, ибо она защищает йогина, словно заботливая мать. У обладающего такой верой и ставящего своей целью обретение способности различения возникает энергия. При возрастании энергии у него появляется способность памятования, то есть устойчивое удержание объекта в памяти. При наличии памятования сознание достигает невозмутимости и становится сконцентрированным. У того, кто обладает сконцентрированным сознанием, возникает различающая мудрость, с помощью которой он познает истинную природу вещей.
Благодаря применению этих средств и бесстрастию как полагаемой цели и возникает бессознательное сосредоточение.
Эти йогины в зависимости от используемого метода — мягкого, среднего или интенсивного — составляют девять классов. Таким образом, йогины различаются как практикующие мягкий метод, средний метод и интенсивный метод. Из них те, кто использует мягкий метод, также делятся на три типа: наделенные слабой устремленностью, средней устремленностью и сильной устремленностью. Аналогичным образом такое же деление существует как среди тех, кто использует умеренный метод, так и среди тех, кто использует интенсивный метод. Среди тех, кто использует интенсивный метод, и
21. У наделенных сильной устремленностью сосредоточение — в непосредственной близости.
У этого типа йогинов обретение сосредоточения и плода сосредоточения происходит достаточно быстро.
22. Но и в этом случае тоже имеется различие ввиду слабости, умеренности или интенсивности устремлений.
Существует слабая форма сильной устремленности, умеренная форма сильной устремленности и интенсивная форма сильной устремленности. Поэтому даже среди йогинов, наделенных сильной устремленностью, также есть различие. В силу такого различия достижение сосредоточения и плода сосредоточения весьма близко для йогина, обладающего слабой формой сильной устремленности, еще ближе оно для йогина, обладающего средней формой сильной устремленности, но наиболее близко оно для того йогина, который наделен интенсивной формой сильной устремленности и следует интенсивному методу.
23. Или же сосредоточение достигается вследствие упования на Ишвару.
Вследствие упования, то есть особой формы бхакти, или безраздельной любви, Ишвара склоняется к йогину, он благоволит к нему по причине одного лишь страстного стремления йогина к божеству.
Также и у йогина вследствие страстного стремления к Ишваре достижение сосредоточения и его плода становится наиболее близким.
Итак, кто же тот, отличный от первопричины и Пуруши, кого называют Ишвара?
24. Ишвара есть особый Пуруша, не затронутый аффектами, кармой, её созреванием и скрытыми следами.
Аффекты — это неведение и прочее. Карма — благие и неблагие действия. Созревание — их плод. Скрытые следы — бессознательные впечатления, оставляемые такими действиями.
И все они, существуя лишь в сознании, приписываются Пуруше, ибо он и есть тот, кто наслаждается их плодом. Это подобно тому, как победа или поражение, зависящее от участников битвы, приписываются их господину. Тот же, кто не затронут таким опытом, и есть Ишвара, то есть особый Пуруша.
Но в таком случае существует множество кевалинов, то есть освобожденных, достигших состояния абсолютной обособленности.
Действительно, они обрели состояние абсолютной обособленности, разорвав тройные путы. Ишвара, однако, никогда не был связан с таким состоянием в прошлом и не будет связан в будущем. Хотя предел прошлой зависимости освобожденного может быть познан, в случае с Ишварой это не так. И если возможен предел будущей зависимости для растворенного в первопричине, то для Ишвары это не так. Он — всегда освобожденный, всегда — Ишвара.
— Есть ли достоверное доказательство этого вечного превосходства Ишвары, обусловленного тем, что он обладает высочайшей сущностью, или же такое доказательство отсутствует?
— Его достоверное доказательство — священные тексты.
— Но в таком случае, что является достоверным основанием священных текстов?
— Их основание — в высочайшей сущности Ишвары. Поскольку и священные тексты, и вечное превосходство рядоположны высочайшей сущности Ишвары, их связь не имеет начала во времени.
Отсюда следует, что Он — всегда Ишвара, всегда освобожденный. И это Его высшее могущество не имеет ничего равного себе или превосходящего. Прежде всего оно не может быть превзойдено другим высшим могуществом, ибо если бы существовало нечто, превосходящее Его, то оно было бы им самим. Поэтому тот, в ком реализован высший предел могущества, есть Ишвара. Не существует также и другого высшего могущества, равного ему!
— Почему?
— Когда двое равных говорят об одном и том же желаемом объекте: «Пусть он станет новым» или «Пусть он станет старым», при достижении успеха одним безграничная воля другого столкнется противодействием, и он окажется ниже. Кроме того, невозможно получение одного и того же желаемого объекта двумя равными по силе субъектами одновременно, ибо это противоречит смыслу.
Следовательно, тот, кто обладает высшим могуществом, которому нет равного или превосходящего его, и есть Ишвара! Он, как сказано в сутре — особый Пуруша. И далее:
25. Семя всезнания в Нём не имеет себе равных.
Сверхчувственное познание прошлого, будущего или настоящего по отдельности, или вместе, которое развито в меньшей или большей степени, и есть семя всезнания. Тот, в ком это семя, непрерывно увеличиваясь, не может быть превзойдено, называется всезнающим.
Существует достижение высшего предела для семени всезнания, поскольку в нем различаются последовательные ступени увеличения, как в случае последовательного увеличения размера. Тот, в ком реализуется обладание высшим пределом знания, есть Всезнающий. Он — особый Пуруша.
Умозаключение исчерпывает свою доказательную силу в выведении только общего, и оно бесполезно при познании специфического; поэтому истинное знание Его имени и других особенностей следует искать в агамах.
Хотя Ишвара не извлекает пользы для самого себя, Его цель — приносить пользу живым существам: «При разрушении кальпы и великих разрушениях Вселенной наставлением в знании и дхарме Я поддержу все живые существа, вовлеченные в круговорот бытия». И соответственно было сказано: «Первый мудрец, принявший творящую форму сознания, Бхагаван, высочайший риши, из беспредельного сострадания изложил учение Асури, исполненному желания узнать его».
Он, этот Ишвара,
26. Учитель также и древних, ибо он не имеет временных различий.
И древние учители различаются по времени своего существования, но Он, к кому временные характеристики неприложимы, является Учителем также и древних мудрецов. Подобно тому как Он совершенен по абсолютности формы существования при начале данного творения, точно так же его следует рассматривать и при начале прошлых творений.
27. Его вербальное выражение — священный слог ОМ.
Ишвара — то, что обозначается священным слогом ОМ.
— Является ли эта связь обозначаемого и обозначающего плодом условного соглашения, или же она неизменна, как, например, связь между светильником и светом?
— Эта связь обозначающего с обозначаемым неизменна, а условное соглашение относительно обозначения Ишвары и представляет такое неизменное отношение. Например, неизменное отношение между отцом и сыном лишь проясняется обыденным словоупотреблением: «Это его отец», «Это его сын». Точно так же и в других периодах творения условное соглашение принимается именно так, в зависимости от функции обозначаемого и обозначающего. Сведущие в агамах утверждают, что связь между словом и обозначаемым им объектом вечна ввиду вечности соглашения.
Йогин, постигший связь обозначаемого и обозначающего, с необходимостью практикует:
28. его рецитацию и сосредоточение на его объекте.
Имеется в виду рецитация священного слога ОМ и сосредоточение на Ишваре, обозначаемом священным слогом ОМ. У йогина, постоянно повторяющего священный слог ОМ и сосредоточенного на его объекте, сознание становится сконцентрированным в одной точке. В этой связи было сказано: «Благодаря рецитации мантр пусть он пребывает в йоге, посредством йоги пусть он созерцает мантру, ибо при достижении совершенства в рецитации мантр и в йоге сияет Высший Атман».
Что еще происходит с этим йогином?
29. Отсюда — постижение истинной сущности сознания, а также устранение препятствий.
Какие бы то ни были препятствия — болезни и прочее, — все они перестают существовать вследствие упования на Ишвару; у него, йогина, возникает также видение собственной сущности. Подобно тому как Ишвара есть чистый Пуруша, ничем не замутненный, абсолютно обособленный, лишенный бытийных характеристик, этот йогин приходит к пониманию, что он также есть Пуруша, отражающий содержание буддхи.
Далее. Что такое препятствия, которые делают сознание рассеянным? Каковы они и сколько их?
30. Болезнь, апатия, сомнение, невнимательность, лень, невоздержание, ложное восприятие, неспособность достижения какой-либо ступени сосредоточения, отсутствие стабильности при сосредоточении — эти отвлечения сознания суть препятствия.
Насчитывается девять препятствий, вызывающих рассеяние сознания. Они возникают одновременно с деятельностью сознания. При отсутствии этой деятельности они также отсутствуют. О видах деятельности сознания было сказано выше.
Болезнь — нарушение равновесия гуморов, телесных секреций или внутренних органов.
Апатия — неспособность сознания к функционированию.
Сомнение-вид познавательной деятельности, затрагивающий обе стороны проблемы: «быть может, это так», «быть может, это не так».
Невнимательность — то, что вызывает отсутствие интереса к средствам реализации сосредоточения.
Лень — бездеятельность по причине тяжести тела или сознания.
Невоздержание — жажда соединения с чувственным объектом.
Ложное восприятие — ошибочное знание.
Неспособность достижения какой-либо ступени — недостижение соответствующей ступени сосредоточения.
Отсутствие стабильности — неспособность сознания зафиксировать себя на достигнутой ступени, ибо только при обретении сосредоточения оно может быть устойчивым.
Таким образом, эти отвлечения сознания и называются девятью загрязнениями йоги, врагами йоги, препятствием йоги.
31. Страдание, уныние, дрожь в теле, вдохи и выдохи сопутствуют рассеянным состояниям сознания.
Страдание бывает трех видов: вызываемое внутренними причинами , вызываемое другими существами и вызываемое сверхъестественными причинами. Страдание — это то, от чего живые существа стремятся избавиться, когда оно их поражает.
Уныние есть нарушение ментальных функций вследствие препятствия реализации желания.
Дрожь в теле — когда части тела дрожат, то есть сотрясаются.
Вдох есть жизненное дыхание, при котором вдыхается внешний воздух. Выдох — когда выходит воздух, находящийся внутри тела.
Все эти явления сопутствуют рассеянным состояниям сознания , то есть они бывают лишь при рассеянных состояниях сознания и отсутствуют при сконцентрированном сознании.
Итак, эти рассеянные состояния сознания, являющиеся препятствием йогическому сосредоточению, должны быть подавлены посредством уже упоминавшихся практики и бесстрастия. Здесь же автор в заключение говорит о предмете практики:
32. в целях их устранения — практика с одной сущностью.
Для устранения рассеянных состояний сознания пусть йогин практикует работу с сознанием, «опирающимся» на одну отдельную сущность.
Однако для того, кто полагает, что сознание есть лишь сознавание одного объекта за другим и к тому же мгновенно, все сознание в своей всеобщности только однонаправленно и не может быть рассеянным. Лишь в том случае, когда это сознание, отвлекшись от всего остального, концентрируется на одном объекте, оно становится однонаправленным. Следовательно, оно не может быть направлено с необходимостью на каждый объект. Так же и для того, кто полагает сознание однонаправленным, поскольку оно представляет поток сходных впечатлений; если его однонаправленность есть свойство сознания, трактуемого как поток, то такой поток сознания не является чем-то унитарным ввиду своей мгновенности. Если же допустить, что однонаправленность есть свойство конкретного содержания сознания, представляющего собой составной элемент непрерывного потока сознания, то независимо от того, состоит ли этот поток из сходных или различных содержаний сознания, само сознание всегда однонаправленно, поскольку оно с необходимостью фиксируется на каждом объекте. Таким образом, мысль о рассеянном сознании оказывается необъяснимой. Отсюда следует, что сознание унитарно, направлено на различные объекты и стабильно.
Далее. Если бы содержания сознания, имеющие различную инутреннюю природу, порождались бы как не связанные с единым сознанием, то как в таком случае одна когниция могла бы помнить то, что было увидено другой когницией? Как одна когниция могла бы быть субъектом кармы, накопленной другой когницией? Если даже это как-то и устанавливается, то лишь способом, напоминающим логику «коровьего навоза и молочной пищи».
Более того, при рассмотрении сознания как различных, не связанных между собой когниций оппонент приходит к отрицанию достоверности опыта самотождественности. Каким образом две когниций «Я прикасаюсь к тому, что я прежде видел» и «Я вижу то, к чему я прежде прикасался» могут быть отнесены к не имеющему различий субъекту познания, если все когниций различны? Каким образом когниция «Я семь этот неделимый атман», имеющая своим объектом одну идею атмана и возникающая в совершенно различных сознаниях, может принадлежать одному субъекту познания как общее знание? Ведь знание «Я семь этот неделимый атман» может быть получено из собственного опыта. Более того, авторитет восприятия не превосходит другие средства познания. Напротив, другие средства познания находят применение именно благодаря восприятию. Поэтому сознание унитарно, направлено на различные объекты и стабильно.
Каким образом достигается то очищение устойчивого сознания, о котором говорится в шастре?
33. Очищение сознания достигается культивированием дружелюбия, сострадания, радости и беспристрастности по отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку.
Итак, пусть йогин культивирует дружелюбие по отношению ко всем живым существам, наслаждающимся счастьем, сострадание к тем, кто испытывает страдание, радость по отношению к добродетельным, беспристрастность к обладающим порочными склонностями.
У того, кто взращивает свои чувства подобным образом, возникает «светлое» качество, а отсюда и происходит очищение сознания. Будучи очищенным, оно становится устремленным к одной точке и достигает стабильности.
34. Либо же благодаря выдоху и задержке дыхания.
Полный выдох есть удаление воздуха из груди через обе ноздри посредством особого усилия; его удержание есть пранаяма, то есть контроль над дыханием.
Либо же — йогину следует достичь ментальной стабильности с помощью этих обоих способов.
Источник